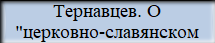ДВА СВИДЕТЕЛЯ
Теперь станет понятно, о каком переломе домостроительства среди языко-христианских народов здесь будет речь. Христианство древних классических народов стало малиться и угасать, и центр высших религиозных интересов с берегов Средиземного моря переносится на север Европы к новым варварским народам. Здесь учредилось несколько государств, и через эти народы и их правителей насильственно приняли также Христианскую веру, но они переменили только тип религии, во всём же прочем суеверие, жестокость, невежество осталось то же и сверх того многие пристали к Ариевой ереси. Вот почему все дальнейшие видения, показанные Иоанну в едином миге пророческого наития, должны быть относимы к судьбе этих народов, и мы здесь себя чувствуем в новых временах и новом пространстве. И ДАМ ДВУМ СВИДЕТЕЛЯМ МОИМ. ОНИ БУДУТ ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ ТЫСЯЧА ДВЕСТИ ШЕСТЬДЕСЯТ ДНЕЙ, БУДУЧИ ОБЛЕЧЕНЫ ВО ВРЕТИЩЕ.
Кто эти «два свидетеля», они, столь ярко очерченные чертами нестираемыми и красками нетускнеющими? Были ли на перевале этих водоразделов истории два таких лица, которые завершили бы собой прошлое, и на которых бы утверждалась вся надежда на религиозное будущее язычества?
Да, были. Это Кирилл и Мефодий – просветители славян. Родные братья по крови, неразлучные в детских играх, неотстающие друг от друга в аскетических подвигах зрелых лет, – они взаимно дополнили один другого и в апостольском служении, которое доставило им венец бессмертия. В этом парном сочетании они запечатлелись и в памяти потомства. Это как некая мистическая диада, двойная звезда, двоица единого духовного явления.
Но можно ли поверить, что вся будущая судьба христианства, которое было принято сперва некоторыми, а потом всеми народами севера, зависело от этих двух человек? Значит, так.
История подлинно аристократична, и в своей последней сущности всегда творится немногими. Все великие массовые перевороты были лишь осуществлением внизу того, что сначала творилось в умах избранных единиц наверху. Надо только уметь найти и верно указать этот верх. Поэтому нет ничего несбыточного и здесь, когда всё будущее Христианства созерцалось с Патмоса Иоанну, как плод учительного подвига двух каких-то служителей Божиих.
В чем же состояла особенность служения этих «двух свидетелей»?
Как известно из истории, Кирилл и Мефодий проповедали некоему весьма многолюдному варварскому племени Евангелие о совершившемся спасении рода человеческого. Но как видно из показаний Апокалипсиса, они сверх того и «пророчествовали». Кому? Когда? О чем? В каких словах?
Перевод священного Писания, на какой бы то ни было варварский язык, не составляет ещё неслыханного дела. Христианство всюду приносило с собою народам письменность. Скорее можно утверждать противное. В IV веке епископ Вульфила перевёл Библию на готское наречие, и это не дало никакого плода и не вызвало в истории бурь, отсюда вовсе не родилось особого Готского Христианства с каким-то особенным призванием. Он даже опустил книги Царств и Судей, чтобы только не разжигать и без того неистовых воинственных страстей у готов. Ещё раньше Писание было переведено на сирийское, коптское, грузинское, армянское, эфиопское наречие. И из этого также ничего не следовало, кроме, впрочем, некоторых еретических ответвлений Христианства и схизм. Миссионерские подвиги также были обычны в те времена.
Чем же тогда отличалось дело Кирилла и Мефодия?
Они одарены чрезвычайными силами, как Моисей и Аарон пред Египетским Фараоном и как Илия и Елисей пред Ахавом. Подобно Еноху, проповедовавшему людям покаяние и грядущее истребление грешного мира потопом, и подобно Илии, который в ревности по Богу, был последним огненным пророком единого когда-то Израильского народа, – так и эти два друга Божии. Но тут было нечто большее, чем простое подобие. Они имели одних ангелов-хранителей. В них заткан был из далёких прошлых времён дух этих мистических двойников их и соединившиеся с их образами. Они видели неминуемую катастрофу, нависшую над Христианством классических народов, и сознавали себя последними героями единого когда-то великого святоотеческого греко-латинского кафолицизма и пророками падения его и провозвестниками будущего. Они также предчувствовали, что духовный переворот, который они призваны совершить, приведёт в будущем к новой, более полной победе дела Христианства на земле. И они в новую славянскую Церковь вложили это упование. Какое же?
С тех пор этот таинственный Ковчег носится в продолжение 40 дней по волнам, храня в себе надежду нового творения.
В VII, VIII и IX веках на Востоке и Западе умами иерархов, ученых экзегетов, канонистов, хранителей овладел один жестокий религиозный предрассудок: будто есть только т р и чудесных языка на земле, на которых Создатель дал людям уразумевать божественные предметы во всей их глубине и силе и торжественно выражать в той мере, в какой это доступно для тварей, подверженных тлению. Языки сии – еврейский, греческий и латинский. Это суеверие создавало отравленную атмосферу, необходимую для дыхания аллегорий, легенд. Оно же двигало миссиями, школами и культурой Рима и всей церковно-государственной политикой Византийской Империи, обрекая варварские народы на вечную зависимость духовную и неисчислимые бедствия политического порабощения. (В Евангелии было два языка: латинский и греческий.)
И вот в это-то глухое время, – время крайне невежественное и во всех других отношениях, когда лучшие умы изнемогали от риторики в тепличной атмосфере, необходимой для дыхания аллегорий, легенд, они создавали славянскую грамоту и, переведя Священное Писание и богослужебный круг на новый язык, создали питающую отсюда общину. Но Кирилл и Мефодий сверх того смело вдохнули в умы своих ближайших учеников потрясающее обетование, что славяне будут когда-то пред Господом таким же великим языком, как евреи, греки и римляне. А так как те народы имели пред Богом всечеловеческое служение, то это было пророчество о явлении некогда в истории нового славянского кафолицизма, который грядет на смену греко-восточного и латинского.
Они производят впечатление одержимых этой идеей. Они убеждены, что ставят проблему, которую в её немом величии ещё никто никогда не чувствовал, но в будущем оно неизбежно заполнит сознание всего человечества.
Каково же может быть содержание этого кафолицизма?
Если мы вспомним, как преступно затоптано было в Христианстве классических народов пророчество о «Мессианских днях на земле», – то нам станет ясно, какое чаяние вкладывали братья Апостолы в своё начинание. Ожидание новых лучших времён («тысячелетнего царство Христова») у первых христиан, хотя не было возведено на степень общеобязательного догмата, тем не менее, служило источником великих утешений, как личных убеждений. Только с «торжеством Христианства» при Константине, которое многие стали ошибочно принимать за наступившее «тысячелетнее царство», это чаяние было забыто и, наконец, померкло. И вот теперь это обетование, как меч, сверкнуло над изнемогающим Христианством греко-латинских народов.
Кирилл и Мефодий – эти неодолимые ратники Христовы, старавшиеся проходить свой путь столь смиренной поступью, кладут начало новому делу, необычайно великому. Так этим воинствующим пророчеством они наново заквасили всё дальнейшее Христианство варварских народов хилиастическими дрожжами, и с тех пор оно вот уже 11 веков действительно революционно бродит только в этом направлении.
Это буквально разделило на две части историю человечества.
Мечта о царстве социальной справедливости и братства на земле чрезвычайно динамична. Она породила множество сект и вызвала величайшие бури вдохновения и гнева в Средние века. В эпоху возрождения эта же мечта дала великие географические открытия, ибо неприглядная действительность заставила верить в существующие где-то острова блаженных и искать их. Она же дала и реформацию. В век рационализма – революцию с множеством её разветвлений. Теперь она двигает социализмом. Как всё это не похоже на догматические ереси и распри IV, V, VI веков, имевшие своим предметом тайны Троицы и богочеловечества Христа, но, в сущности, представляет собой продолжение их.
Как же долго будет длиться это?
ОНИ БУДУТ ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ ТЫСЯЧУ ДВЕСТИ ШЕСТЬДЕСЯТ ДНЕЙ.
Это значит, что время пророчествования их будет длительное: оно будет тянуться дольше, чем время свидетельствования. Свидетельство их кончится со смертью телесной, а воинствующее пророчество останется жить, обнимая зовом своим долгий ряд веков. До каких же пор? Пока языко-христианство не созреет для развязки его религиозной драмы. Это томительно долгое время исчисляется здесь солнечными единицами времени – д н я м и.
1260 дней равняется 31/2 годам или 42 месяцам, считая год за 360 дней. Загадку этого срока да поможет нам Господь изъяснить в своём месте.
ОНИ БУДУТ ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ, ОБЛЕЧЁННЫЕ ВО ВРЕТИЩЕ.
Вретище – убогая одежда, противоположная парчовым, пышным, красивым, нежным, греющим и богатым одеяниям духовных сонм культурной Византии. И когда вдуматься в подвиг Кирилла и Мефодия, то это изумительно выражает правду о них. О, это были не профессиональные миссионеры тех дней, странствующие торговцы учением, тати душ и доверия, неугомонные авантюристы или фанатики, и религиозные харизматики, каких тогда Византия и Рим сотнями выбрасывали из своих религиозных недр во все концы мира. Эти люди, как ремесленники, всюду делали своё дело, ища, конечно, выгоды пославшим их и себе. Там, конечно, ни о каком «вретище» и речи не могло быть.
Но здесь? Здесь выступили на подвиг люди, имеющие все данные для того, чтобы занять влиятельное положение в своём столь прославленном государстве или высокий сан в церковной иерархии, ибо оба они являлись самыми близкими кандидатами на патриарший престол, особенно Кирилл. А они, покинув круг родных, все удобства жизни в патрицианском доме и уединение во имя личного спасения в излюбленном монастыре на Афонском Олимпе, пошли на много лет служить чужому полудикому народу. И сколько надо было подвига, чтобы там, отдаваясь ежедневному учительству в глиняных мазанках, навсегда сбросить с себя всё великолепие своего умственного оперения: учёное тщеславие, аскетическую замкнутость, ораторские приёмы, – и всё это только для того, чтобы сделать понятным Евангелие о Слове, ставшем плотью, какому-то простому земледельческому народу, у его домашних очагов, на его примитивном языке народа, доставлявшем Византии столько бед.
Но и этого мало. Несмотря на свои частые сношения с варварами, греки чувствовали своё неизмеримое превосходство над ними: великая культура их давала им на это право. И разве не греческий язык – основной язык Нового Завета? Это льстило грекам! Кирилл и Мефодий принесли и эту последнюю жертву, которой до них из отцов и учителей Церкви не приносил никто. Предрекая великое религиозное будущее славянам и, следовательно, явление новой великой культуры, они тут совлеклись последнего самообольщения, которое составляло главную гордость позднейшего эллинства. И принимая на себя это столь исключительное дело, они вовсе не хотели быть реформаторами, провозвестниками небывалого учения, творцами новой Кирилло-Мефодиевской сектанты. И этого последнего соблазна совлеклись они, как бесовского тщеславия. В какой же зябкой наготе выступают они здесь! Речь их, сокращенная до небольших обрывков слов, понятных славянам, едва прикрывала их… воистину вретище!
Спрашивается: могли ли совершить такое дело надменные резонёры, задавившие в себе свои страсти, сухие грамматики или люди с авантюристически рассеянной душой, каких тогда было множество среди миссионеров? Нет, тут этими людьми должно было руководить пророческое помазание и высшая мера нравственной сосредоточенности.
К IX веку кафолическое Христианство изнемогало под тяжелым бременем наследия книжного мелева бездушного трёх великих культур – иудейской, эллинской и латинской. Надо было иметь смелость освободить вечное сокровище спасения из этих пут: риторства, бездушного книжного мелева комментаторов, философских спекуляций, иерархического высокомерия, казуистики комментаторов богослужебной эстетики, и открыть путь новых харизматических возможностей. И Кирилл и Мефодий это сделали. Вот почему с этих пор оккультно почувствовалась какая-то неизъяснимая упрощенность в Христианстве.
Тогда возникает вопрос: неужели же Бог, явивший Себя столь Близким Отцом Небесным для вселенских деятелей Церкви, мучеников и подвижников, не был Богом Кирилла и Мефодия? Был и именно потому. Нет, здесь пред нами нечто иное.
ОНИ СУТЬ ДВЕ МАСЛИНЫ И ДВА СВЕТИЛЬНИКА, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД БОГОМ ЗЕМЛИ.
Парное сочетание: умирал Кирилл, но над Мефодием чувствуется зов родной души.
Что значит это?
Кирилл и Мефодий хорошо знали Рим и ещё лучше знали Константинополь. И там, и здесь жизнь дворца, императорская власть, церковная политика, государственная дипломатия, законодательство, наука, искусство, служебное представительство, торговля, хозяйство – всё строилось не по велениям христианской праведности. На этих поприщах люди движимы были тщеславием, корыстью, соперничеством, плотоугодием, что порождало всюду угнетение и попирало евангельский завет братства. Миссии же, которые в те времена составляли самый привлекательный путь приложения человеческой энергии, были своекорыстны, жестоки, поработительны, подобны охотничьим промыслам. (Папы после альбигойских войн тысячами продавали в рабство и православных и еретиков на мусульманские рынки)
В Византии в то время при словесном исповедании ортодоксии господствовал аскетический идеал и, в сущности, дуализм, который бессилен был отмежевать себя от манихейства. Это действовало разрушительно на религиозную жизнь христиан востока и запада. Мысль, будто Богу принадлежит н е б о, а земля отдана в удел греху и диаволу (Манихейское марево), – эта чудовищно-ложная мысль требовала опровержения. Догма манихеян составила скрытое основание большинства последующих сект, опиравшихся на «эзотеризм». Но возражать на неё словами было недостаточно, да и поздно. Византия и так уже чрезмерно истощила себя в словесных спорах.
Величие Кирилла и Мефодия заключалось в том, что они не преклонились перед силою факта, а ему противопоставили другой факт, который со временем должен пожрать своего противника. Они разрушили «священное» понятие οικουμενη («заселённая» земля – пер. ред.), страны, населённой истинными людьми, и заменили его идеей праведной земли. Среди подавляющего господства аскетизма и одноактной эсхатологии всем подвигом жизни они запечатлели свою горячую веру в истину ветхозаветных (древних) обетований о «праведной з е м л е» и двухактную эсхатологию, пламенную проповедь нерушимого оптимизма. «Господня земля и всё, что на ней». Бог хочет, чтобы вся земля, как чаша, наполнилась откровением о Нём и ведением Его и чудесами Его. Бог хочет осуществления библейских времён в Христианстве и песни песней в человечестве. Ему нужен народ, который бы Его слушал. Хвала той радостной надежде, в которой славятся небо и земля.
Так перед этими толпами варваров выступили не фиваидские аввы, нашедшие свой путь в полном отрешении от земли и самоумерщвлении, а пророки о з е м л е, «две маслины», приносящие Богу, как дар земли, свой свет светильничный, это мужи неисчерпаемых царственных богатств сердца. Изо дня в день преподавая варварскому народу всю библейскую и богослужебную науку Востока, они сверх того вложили в ум ближайших учеников и эту интуицию священного материализма – любовь к грешной земле. С тех пор созданная трудами этих двух подвижников на севере Европы религиозная действительность озарилась пророческим чаянием явления в грядущих веках преображения нравственной сущности человека и братства между народами. Такого Христианства ещё не было в истории. С первых же дней в противность дряхлеющей Византии, умиравшей в объятиях боготворимого её прошлого, это варварское христианство устремляется в далёкое будущее, к задаче огромной, превышающей силы человека; и потому каждый строитель его для выполнения выпадающей на его долю части задачи должен будет также стоять пред Богом з е м л и. Так на наших глазах, уже в поздний час истории, зарождается новая религия земли.
Что же представляли тогда собой славяне, и способны ли они были явиться носителями столь великого обетования?
В то время славяне были уже весьма многочисленным и распространенным племенем, но народом, непомнящим своего родства (в противность Арабам и Евреям, и Грекам, и Римлянам). Это был самый странный из пасынков истории. В эпоху переселения племён славяне принимали участие во всех завоевательных набегах на культурные центры южной классической Европы, но всегда под главенством других народов и даже под чужим именем. Неспособные образовать из себя прочный военный союз, теснимые с запада германцами и монгольскими кочевниками с востока, они из одного рабства переходили в другое, и всегда сами сплетали бич, державший в подчинении своих соплеменников. Αναρχος και ατακτος εθνος (не имеющий начальников и непослушный народ – пер. ред.). Чрезмерная склонность к мечте, ко всякому ребяческому бреду, рознь, незрелость, распущенность, – чтобы победить всё это в тот век господства исключительно религиозных идей и повального невежества был один путь – это Христианство.
Это человеческое болото без всякого внутреннего единства, с постоянной гражданской войной, с политической нечистоплотностью, с мужицким ребяческим бредом, вечно болело жаждой истины. Надо помнить, что тогда науки не было у Европейского народа, не было идеалов никаких, кроме идей церковных.
Но опыт истории показал, что для славян принять Христианство на греческом языке – это значило совершенно раствориться в эллинстве. Так было в VI и VII веках, когда большие группы славян завоевали весь Балканский полуостров вплоть до Пелопоннеса. Они заняли там низменные места и тотчас прирастали к землям, на которых расположились пахотными общинами. <Они> Скоро приняли греческое христианство, и (неразб.) следующее поколение этих «завоевателей» при встрече с византийскими начальниками уже торопливо сворачивали с дороги и низко кланялись, снимая шапки. В оковах «права» канонического и государственного они рабствовали.
Принять Христианство на латинском языке – это значило подпасть под холодное веяние внутренней его опустошенности и смерти: отец умирал для сына и брат для брата становился замкнутым, точно незнакомым, и по лицам их уже нельзя было понимать, расположены ли они или враждебны друг к другу, доброе или злое замышляют. Но, кроме того, это значило попасть в рабство к франкам и тевтонам.
Император Карл (он был дракон, для слова, змей Горыныч), чтобы закрепить за собой опасную восточную границу, учредил по ней маркграфства. Маркграф обладал обширною военною и гражданскою властью наместника, и все учреждения и порядки направлены были к порабощению именно славян. «Марки» заселялись буйными немецкими выходцами, грубыми, алчными. Эти отчаянные головорезы, полурыцари и полуразбойники, такие же грубые и алчные «епископы», настоящие корсары, охотящиеся за людьми, строили «бурги», замки и крепости, пользуясь за это большими льготами, славян же они хотели держать как холопов, покорный рабочий скот, обрабатывающий землю в их пользу. Меч и латынь были направлены против холопов. С этих пор имя «славянин» стало означать раба, slavi – sclavi (славянин, раб – пер. ред.). Так на берегах Эльбы, Дуная и Вислы началась длительная расовая война, составляющая трагедию новой истории, цепь насилий, угнетений и жестокостей.
В душе славян везде стал подниматься вопль о спасении: неужели кабала, холопство и порабощение для них имеет быть вечным? Они видели, что из-за них, как слабоумной и слабовольной массы, идёт соперничество не на жизнь, а на смерть между греческой и латинской миссией. Рабочая сила у земли – был этот страдальчески жадный к вере народ. Чувство опасности было так велико и разительно, что почти одновременно славяне сплотились в несколько политических тел. Около 700 г. у чехов образовалось своё государство с князьями Перемысловичами во главе. Около 800 г. возникло государство у поляков, выбравших себе князем Пяста. Тогда же для отпора швабам и франкам создали своё государство и хорваты. Еще раньше в эту же пору сложилась и Болгария на Дунае. Немного спустя и восточные славяне, Русь, – образовали на Днепре своё государство с варягами. Но всем этим построениям недоставало высшей идеи, не было никакой общей определённой цели, не было никакого морального единства.
Вот почему, когда Константин и Мефодий, прибыв в Велеград, впервые вышли с крыльца княжеского терема князя Ростислава (князь Великой Моравии, правивший с 846 по 870 годы – прим. ред.), обратились к собравшемуся тут народу с благою вестью о Слове, ставшем плотью, и под конец объяснений прочитали Никео-Цареградский символ по-славянски, – то это принято было всеми, как весть освобождения. Так народное движение против немецкого порабощения сразу нашло себе опору в новой вере и слилось с церковным противодействием латинству.
Исторический оптимизм, чаяние единения всех людей и братства на земле как нельзя больше подходило к характеру славян. С первых шагов на поприще истории у славян поражает склонность не к хищным союзам завоевательным, а к трудовой земледельческой мирной общине. Часто под влиянием монгольских жестокостей и германских индивидуалистических соблазнов наблюдался у славян упадок этого общинного духа на несколько поколений, но теперь Христианство принесло славянам неисчерпаемый источник перерождения общины естественной, стихийной, этнографической в общину религиозную, – источник, из которого в будущем должны изойти самые удивительные и бурные стремления этого народа к добру и правде, и самые невероятные по самоотвержению и последовательности попытки осуществить христианство на земле.
Теперь же славяне слушали песнопения, проповедь и отрывки из пророков Библии, – и ушам не верили. Происходило какое-то чудесное крещение псалтырью их речи. В общеупотребительных словах их примитивного, но могучего, языка неожиданно открылись какие-то двери в вечность, что сообщало этим словам необыкновенный смысл и вес. А потом эти слова снова как бы вспять свёртывались и казались незначительными и затёртыми привычкой. Весть о том, что произошло в Велеграде, стала быстро распространяться по всей Моравии. От селения к селению, от города к городу пошел говор о новых учителях. У водопоев, на речных бродах и перевозах, вокруг пастушечьих огней придорожных костров по ночам, везде жадно прислушивались к вестям о новом учении. В домах под соломенными стрехами подымались споры о лучшей вере, и все склонялись к тому, что не может же быть, чтобы на земле было столько вер, сколько голов, что непременно должна быть одна истинная вера, которая и победит. И обсуждали вопросы, вытекавшие из нового положения. Скоро дело крещения стало общенародным, если не в количественном, то в качественном смысле. С крещением совершенно падала власть прошлого над этими душами. О язычестве прежних дней никто уже теперь не жалел. Там, позади, была жизнь холодная, бессловесная, тусклая, полускотская. Как смутный и бестолковый сон она больше не тяготела над душой и забывалась легко: там не было, что помнить, и нечего жалеть.
В немецких же замках гордо возвышались костёлы и монастыри, обнесённые крепостными стенами, откуда, трубя в рога, по-прежнему закованные в латы «епископы» скакали на конях, размахивая мечами, и неслась завоевательная латынь и проповедь немецкая. Как это было не похоже на открывающиеся по деревням в разных местах Моравии богослужения. Здесь везде учили одному и тому же: они вдвигали народ мечтательный со слабым развитием личности в готовый уклад, от которого веяло греющим светом твёрдой и вековой определённости, что было для славян истинным спасением. Тысячные толпы собирались теперь к литургиям и, стоя плечом к плечу, внимали ектеньям, слушали древние сетования о том, что человек «яко трава и дние его яко цвет сельный», кое-как вкладывали в сердца отрывки Евангельской повести, начинающейся «во время оно», о загадочном и страшном деле, какое совершилось в Иерусалиме во время оно – распятие Сына Божия. И когда эти люди, давно и страдальчески искавшие выхода в молитве, мощным унисоном начинали петь «Отче наш», то это имя «Отче» производило на них подавляющее впечатление, торжественное и чудное. И им казалось, что волосы на голове шевелятся у них не от ветра, а от этого имени.
Тут совершалось великое трогательное дело, но, судя по-человечески, совершенно неспособное само себя защитить в тот век религиозного хищничества и насильственных обращений. Вот почему Господь сам на себя берёт эту защиту и говорит:
ЕСЛИ КТО ЗАХОЧЕТ ИХ ОБИДЕТЬ, ТО ОГОНЬ ВЫЙДЕТ ИЗ УСТ ИХ И ПОЖРЁТ ВРАГОВ ИХ.
Изумительные слова. Неужели это так и было в действительности? Где же? Когда? Вспомните, во что обошлось Западу это отрицание.
На обороте листа:
В них сразу сосредоточились яркие лучи истинно-апостольского миссионерства. Но вдруг – ко всеобщему изумлению и ужасу – совершается внезапный перелом, и эти два светильника начинают жечь беспощадно своих и чужих.
С этими людьми справиться мудрено. Их нельзя дискредитировать ссылкой на их своекорыстие, невежество в богословии или нравственную порочность. В познаниях они могли померяться с любым папским богословом и канонистом.
Тогда-то разгорелась жажда истребить таковых от земли (Деян.XXII, 22), чтобы об них не было ни малейшего слуха. И чтоб они не оставались вечными, непоколебимыми обличителями папской системы, нестерпимыми укорами для каждого паписта.
Они решили и постарались скрыть их в море лицемерного неведения.
Сохранить их имена было и больно и опасно, потому что эти люди были живыми свидетелями коренной несостоятельности папистической системы. Это грозные люди! Они на всём протяжении дальнейшего существования, т.е. до развязки (служить в муку живущим на земле), заставляя ежеминутно и с тревогой задумываться относительно своих прав на существование тех, кто, казалось, так твёрдо держит в руках кормило правления Христианством.
Насильственное забвение – вот средство. Но…
Моравия с Паннонией подчинены были «юрисдикции» Зальцбургского архиепископа (это же был сущий разбойничий притон). «Патеры» давно уже собирали десятину и всякие оброки с моравов. Теперь же со многих мест понеслись в Зальцбург жалобы и крики о нарушенных правах. Писали: «Явился какой-то грек, именем Мефодий, со вновь изобретёнными славянскими письменами, который в своей высокомерной мудрости сделал для части населения той страны ненавистными обедни, евангелия и прочие церковные службы по-латыни»
Им открылась бесполезность их служения, эгоизм преступный, неверие, кощунство. Они стали чувствовать себя постоянно точно пред ними поставили зеркало.
Пассавские епископы, викарии Зальцбургских <архиепископов>, эти тати славы святых и патеры, немецкие Каролинги, рыцари всего Маркграфства, латинские миссионеры, немецкие проповедники, проповедовавшие ловкую и красивую ложь о Христе и со змеиными оконечностями, – словом, те, кто, уверяя, что «печётся о душах славян», употреблял усилия, чтобы отвоевать эти массы прирождённых холопов, приросших к земле, как мягкую подстилку для германской Империи, окружили гневным кольцом славянское начинание. Всё это были враги могущественные, опытные интриганы, страшные потому, что готовы были пойти на всё.
Пока Кирилл и Мефодий сеяли свои семена молча, каждый из них ещё мог истолковывать это дело в безобидном для себя смысле. Раньше они назывались епископами, совершали мессу и были спокойны. Теперь конец покою. Но когда они, защищаясь от готовящихся посягательств и обид, вынуждены были открывать основную идею этого начинания, то это полагало конец их цельности языческой и разбойничьей, и приводило в ярость, ибо все они чувствовали себя огненно изобличёнными, потерявшими и лишенными всякой уверенности в своих оценках. Что-то у всех этих чуждых захватчиков и грабителей душ обрывалось внутри нравственного содрогания, и умы, (лишенные всякой уверенности в своих оценках), попадали во власть каких-то огненных вихрей сверхчеловеческой вражды: их действия становились после этого гораздо радикальнее, чем сами они того хотели. Посмотрите на епископов Зальцбургских и их Пассавских викариев (со змеиными оконечностями). Это ли не люди, заживо сгорающие на геенском огне ненависти и вражды ко Христову делу? Настоящие корсары – бандиты, охотящиеся за людьми. Жестокие телесные истязания, которым они подвергли Мефодия, заключив его в тюрьму после того, как он был самим папой уже назначен Архиепископом Моравии и всех славян, двухлетнее заключение в темнице, наглые обвинения в ереси и клеветы среди человеческого лая, которыми старались опутать каждый его шаг, подлог папской анафематствующей буллы, и всё это делалось с полным забвением своего священного сана, – всё это с изумительной точностью подтвердило слова Апокалипсиса об огне поядающем.
В Византии этого не было. Здесь Кирилла и Мефодия мягко и ласково благословили на это дело кастрированными словами. Тут было просто недоразумение. Тут смотрели на эту миссию, как на первый шаг к заключению церковно-общественного союза. Патриарх Фотий (ок.820-896гг., патриарх в 858-867 и 877-886гг., один из отцов церкви, святой – прим. ред.), вечный учитель Вести, был весьма высокого мнения о Византийской Церкви, греческой народности и общечеловеческом значении эллинской культуры. Мысль о замене (отмене) всего этого ему бы также показалась безумной, святотатственной. Как раз в это время Фотий писал Армянскому Католикосу Захарии: «евреи и их язык отвергнуты Богом и заменены Греками и их языком». Эта мысль его вытекала из уверенности, что Греки – новозаветный Израиль, что религиозно-историческая миссия еврейского народа перешла в Новом Завете на Византию. И поразительно, что Фотий, умнейший и самый яркий выразитель этого суеверия, явился как раз в то время, когда миссия религиозная греков в христианстве окончилась.
Царствовавший в это время в Константинополе Император Михаил III, благословлявший Кирилла и Мефодия на проповедь, был ничтожнейший шут на троне, всегда пьяный, устраивавший кощунственные шутовские процессии по столице …ему до высоких задач христианства было решительно всё равно…
Кирилл и Мефодий понимали всё это, – и огонь из уст их не выходит в сторону греческого Востока только потому, что там их не обижали, а значит, и не вынуждали их раскрывать мысль, которую они вкладывали в эту миссию.
И ЕСЛИ КТО ОБИДИТ ИХ, ТОМУ НАДЛЕЖИТ БЫТЬ УБИТУ.
Кто же в действительности обижал их? Скажем прямо: весь Запад, ибо его интересы тут оказались задетыми в корне среди ожесточенной борьбы моравов с немцами за независимость. Почему же такая страшная кара? И неужели она исполнилась в истории? Где? На ком?
Эта проповедь разделяла мир на два стана: друзей и врагов. Вальденцы позднее…
Только это хилиастическое христианство таило в себе оправдание меча, т.е. государственного принуждения и кровавых возмездий. Только оно способно было создать святое воинствование ради осуществления Божьего Града, т.е. царства справедливости на земле. Если принять во внимание, что все враги действовали против этих утопистов не только по мотивам частной случайной злобы и личной корысти, а вследствие религиозного извращения, лежавшего в основе латинской лжетеократии, и по мотивам обще-культурным и историческим, – то достойно и праведно, что всем носителям этих движущих начал и им самим суждена с м е р т ь религиозная и историческая, политическая.
Но то ли мы видим в истории? Именно то. Как бы в воздаяние за это преступление ближайший век был охвачен манией убийства. С презрительной усмешкой отвергнув оправдание меча, которое давалось в этой проповеди, высшие власти Запада вступили на путь собственных самоизмышлённых оправданий, голого убийства, и сами погибали от убийства, ибо создаваемые ими иные фантастические оправдания меча и крови не были убедительны для других. Власть Каролингов, отравленная мечтою миродержания, вообразившая себя преемницей древнего Рима, с первых шагов так жестоко ополчившаяся против этих двух святых братьев, пала, пораженная проклятиями с того папского престола. А власть духовная папская подломилась, пораженная влиянием эмансипированной атеистической культуры.
Эта борьба между папством и имперской власти в ближайший век охватила весь латинский Запад и потрясла до основания весь строй его жизни. Эта борьбы была политическая – между духовной и светской властью, религиозная – между католичеством и манихейством, и социальная – между высшими и низшими классами, между бедняками и богачами, рыцарями и городами, и идейная теоретическая – между христианским аскетизмом и античным рационализмом, и племенная – между романскими народами и тевтонскими. Борьба эта наполнила убийством весь воздух Европы. Она же шла в литературе, и в школах, и на городских улицах и на полях битв… И кончилась она Вормсским конкордатом (теократия Григория VII не состоялась) 1122 г., т.е. «соглашением», как двух самостоятельных начал. Тогда стали выдвигаться города и среднее сословие, как «государственный чин», чего никогда не было в Византии. Это сословие стало носителем светского эмансипированного гражданства, открыто устремляющего свои мечты к счастью на земле, уже не боящегося папских отлучений. В Италии возникли даже свободные городские республики, расширился умственный кругозор, и самый клир повсюду стал обсуждать поступки пап. Так главные силы, столь враждебно действовавшие против юного славянского Христианства, были совершенно ослаблены.
ОНИ ИМЕЮТ ВЛАСТЬ ЗАТВОРИТЬ НЕБО, ЧТОБЫ НЕ ШЁЛ ДОЖДЬ ВО ДНИ ПРОРОЧЕСТВА ИХ.
Кирилл упрекал врагов, что они хотят затворить пред целым народом Царство небесное. (Это не было соперничество из-за кучки поклонников.)
Какое страшное право – узодержатели природы. Неужели этим смиренным переводчикам Святого Писания и учителям было присуще такое решающее значение в деле ниспослания дальнейших откровений на землю человекам? Знали ли об этом сами Кирилл и Мефодий?
Думаю, что знали. А если и не знали полным знанием, то по факту своей исключительности смутно угадывали. Зато теперь, когда из этих скромных семян спустя 1000 лет выросло русское Христианство, единственное сохранившее Апостольское предание и эсхатологию первых веков и способное поднять самые тревожные социальные и религиозные вопросы. Мы видим, что их проницательность была ни с чем не сравнимая, ибо иначе как объяснить себе их деятельность, столь тихую со вне и столь смелую неукротимую и бурную львиную во внутреннем существе своём.
На обороте листа:
Они прибыли в Рим. Папа увидел пред собою кротких смиренных овец. А из Зальцбурга летели письма, изображавшие их, как злобных мятежников и бешеных волков. Папы с подозрительным вниманием выслушивали их и испытывали, но не находили ни одной черты недовольства и непокорства, – сплошное повиновение и кротость. Неужели это буря, притворившаяся тишиной? А из Зальцбурга летели письма, характеризовавшие их как…
Самые тихие слова – это те, что приносят бурю.
Теперь станет понятно, о каком переломе домостроительства среди языко-христианских народов здесь будет речь. Христианство древних классических народов стало малиться и угасать, и центр высших религиозных интересов с берегов Средиземного моря переносится на север Европы к новым варварским народам. Здесь учредилось несколько государств, и через эти народы и их правителей насильственно приняли также Христианскую веру, но они переменили только тип религии, во всём же прочем суеверие, жестокость, невежество осталось то же и сверх того многие пристали к Ариевой ереси. Вот почему все дальнейшие видения, показанные Иоанну в едином миге пророческого наития, должны быть относимы к судьбе этих народов, и мы здесь себя чувствуем в новых временах и новом пространстве. И ДАМ ДВУМ СВИДЕТЕЛЯМ МОИМ. ОНИ БУДУТ ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ ТЫСЯЧА ДВЕСТИ ШЕСТЬДЕСЯТ ДНЕЙ, БУДУЧИ ОБЛЕЧЕНЫ ВО ВРЕТИЩЕ.
Кто эти «два свидетеля», они, столь ярко очерченные чертами нестираемыми и красками нетускнеющими? Были ли на перевале этих водоразделов истории два таких лица, которые завершили бы собой прошлое, и на которых бы утверждалась вся надежда на религиозное будущее язычества?
Да, были. Это Кирилл и Мефодий – просветители славян. Родные братья по крови, неразлучные в детских играх, неотстающие друг от друга в аскетических подвигах зрелых лет, – они взаимно дополнили один другого и в апостольском служении, которое доставило им венец бессмертия. В этом парном сочетании они запечатлелись и в памяти потомства. Это как некая мистическая диада, двойная звезда, двоица единого духовного явления.
Но можно ли поверить, что вся будущая судьба христианства, которое было принято сперва некоторыми, а потом всеми народами севера, зависело от этих двух человек? Значит, так.
История подлинно аристократична, и в своей последней сущности всегда творится немногими. Все великие массовые перевороты были лишь осуществлением внизу того, что сначала творилось в умах избранных единиц наверху. Надо только уметь найти и верно указать этот верх. Поэтому нет ничего несбыточного и здесь, когда всё будущее Христианства созерцалось с Патмоса Иоанну, как плод учительного подвига двух каких-то служителей Божиих.
В чем же состояла особенность служения этих «двух свидетелей»?
Как известно из истории, Кирилл и Мефодий проповедали некоему весьма многолюдному варварскому племени Евангелие о совершившемся спасении рода человеческого. Но как видно из показаний Апокалипсиса, они сверх того и «пророчествовали». Кому? Когда? О чем? В каких словах?
Перевод священного Писания, на какой бы то ни было варварский язык, не составляет ещё неслыханного дела. Христианство всюду приносило с собою народам письменность. Скорее можно утверждать противное. В IV веке епископ Вульфила перевёл Библию на готское наречие, и это не дало никакого плода и не вызвало в истории бурь, отсюда вовсе не родилось особого Готского Христианства с каким-то особенным призванием. Он даже опустил книги Царств и Судей, чтобы только не разжигать и без того неистовых воинственных страстей у готов. Ещё раньше Писание было переведено на сирийское, коптское, грузинское, армянское, эфиопское наречие. И из этого также ничего не следовало, кроме, впрочем, некоторых еретических ответвлений Христианства и схизм. Миссионерские подвиги также были обычны в те времена.
Чем же тогда отличалось дело Кирилла и Мефодия?
Они одарены чрезвычайными силами, как Моисей и Аарон пред Египетским Фараоном и как Илия и Елисей пред Ахавом. Подобно Еноху, проповедовавшему людям покаяние и грядущее истребление грешного мира потопом, и подобно Илии, который в ревности по Богу, был последним огненным пророком единого когда-то Израильского народа, – так и эти два друга Божии. Но тут было нечто большее, чем простое подобие. Они имели одних ангелов-хранителей. В них заткан был из далёких прошлых времён дух этих мистических двойников их и соединившиеся с их образами. Они видели неминуемую катастрофу, нависшую над Христианством классических народов, и сознавали себя последними героями единого когда-то великого святоотеческого греко-латинского кафолицизма и пророками падения его и провозвестниками будущего. Они также предчувствовали, что духовный переворот, который они призваны совершить, приведёт в будущем к новой, более полной победе дела Христианства на земле. И они в новую славянскую Церковь вложили это упование. Какое же?
С тех пор этот таинственный Ковчег носится в продолжение 40 дней по волнам, храня в себе надежду нового творения.
В VII, VIII и IX веках на Востоке и Западе умами иерархов, ученых экзегетов, канонистов, хранителей овладел один жестокий религиозный предрассудок: будто есть только т р и чудесных языка на земле, на которых Создатель дал людям уразумевать божественные предметы во всей их глубине и силе и торжественно выражать в той мере, в какой это доступно для тварей, подверженных тлению. Языки сии – еврейский, греческий и латинский. Это суеверие создавало отравленную атмосферу, необходимую для дыхания аллегорий, легенд. Оно же двигало миссиями, школами и культурой Рима и всей церковно-государственной политикой Византийской Империи, обрекая варварские народы на вечную зависимость духовную и неисчислимые бедствия политического порабощения. (В Евангелии было два языка: латинский и греческий.)
И вот в это-то глухое время, – время крайне невежественное и во всех других отношениях, когда лучшие умы изнемогали от риторики в тепличной атмосфере, необходимой для дыхания аллегорий, легенд, они создавали славянскую грамоту и, переведя Священное Писание и богослужебный круг на новый язык, создали питающую отсюда общину. Но Кирилл и Мефодий сверх того смело вдохнули в умы своих ближайших учеников потрясающее обетование, что славяне будут когда-то пред Господом таким же великим языком, как евреи, греки и римляне. А так как те народы имели пред Богом всечеловеческое служение, то это было пророчество о явлении некогда в истории нового славянского кафолицизма, который грядет на смену греко-восточного и латинского.
Они производят впечатление одержимых этой идеей. Они убеждены, что ставят проблему, которую в её немом величии ещё никто никогда не чувствовал, но в будущем оно неизбежно заполнит сознание всего человечества.
Каково же может быть содержание этого кафолицизма?
Если мы вспомним, как преступно затоптано было в Христианстве классических народов пророчество о «Мессианских днях на земле», – то нам станет ясно, какое чаяние вкладывали братья Апостолы в своё начинание. Ожидание новых лучших времён («тысячелетнего царство Христова») у первых христиан, хотя не было возведено на степень общеобязательного догмата, тем не менее, служило источником великих утешений, как личных убеждений. Только с «торжеством Христианства» при Константине, которое многие стали ошибочно принимать за наступившее «тысячелетнее царство», это чаяние было забыто и, наконец, померкло. И вот теперь это обетование, как меч, сверкнуло над изнемогающим Христианством греко-латинских народов.
Кирилл и Мефодий – эти неодолимые ратники Христовы, старавшиеся проходить свой путь столь смиренной поступью, кладут начало новому делу, необычайно великому. Так этим воинствующим пророчеством они наново заквасили всё дальнейшее Христианство варварских народов хилиастическими дрожжами, и с тех пор оно вот уже 11 веков действительно революционно бродит только в этом направлении.
Это буквально разделило на две части историю человечества.
Мечта о царстве социальной справедливости и братства на земле чрезвычайно динамична. Она породила множество сект и вызвала величайшие бури вдохновения и гнева в Средние века. В эпоху возрождения эта же мечта дала великие географические открытия, ибо неприглядная действительность заставила верить в существующие где-то острова блаженных и искать их. Она же дала и реформацию. В век рационализма – революцию с множеством её разветвлений. Теперь она двигает социализмом. Как всё это не похоже на догматические ереси и распри IV, V, VI веков, имевшие своим предметом тайны Троицы и богочеловечества Христа, но, в сущности, представляет собой продолжение их.
Как же долго будет длиться это?
ОНИ БУДУТ ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ ТЫСЯЧУ ДВЕСТИ ШЕСТЬДЕСЯТ ДНЕЙ.
Это значит, что время пророчествования их будет длительное: оно будет тянуться дольше, чем время свидетельствования. Свидетельство их кончится со смертью телесной, а воинствующее пророчество останется жить, обнимая зовом своим долгий ряд веков. До каких же пор? Пока языко-христианство не созреет для развязки его религиозной драмы. Это томительно долгое время исчисляется здесь солнечными единицами времени – д н я м и.
1260 дней равняется 31/2 годам или 42 месяцам, считая год за 360 дней. Загадку этого срока да поможет нам Господь изъяснить в своём месте.
ОНИ БУДУТ ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ, ОБЛЕЧЁННЫЕ ВО ВРЕТИЩЕ.
Вретище – убогая одежда, противоположная парчовым, пышным, красивым, нежным, греющим и богатым одеяниям духовных сонм культурной Византии. И когда вдуматься в подвиг Кирилла и Мефодия, то это изумительно выражает правду о них. О, это были не профессиональные миссионеры тех дней, странствующие торговцы учением, тати душ и доверия, неугомонные авантюристы или фанатики, и религиозные харизматики, каких тогда Византия и Рим сотнями выбрасывали из своих религиозных недр во все концы мира. Эти люди, как ремесленники, всюду делали своё дело, ища, конечно, выгоды пославшим их и себе. Там, конечно, ни о каком «вретище» и речи не могло быть.
Но здесь? Здесь выступили на подвиг люди, имеющие все данные для того, чтобы занять влиятельное положение в своём столь прославленном государстве или высокий сан в церковной иерархии, ибо оба они являлись самыми близкими кандидатами на патриарший престол, особенно Кирилл. А они, покинув круг родных, все удобства жизни в патрицианском доме и уединение во имя личного спасения в излюбленном монастыре на Афонском Олимпе, пошли на много лет служить чужому полудикому народу. И сколько надо было подвига, чтобы там, отдаваясь ежедневному учительству в глиняных мазанках, навсегда сбросить с себя всё великолепие своего умственного оперения: учёное тщеславие, аскетическую замкнутость, ораторские приёмы, – и всё это только для того, чтобы сделать понятным Евангелие о Слове, ставшем плотью, какому-то простому земледельческому народу, у его домашних очагов, на его примитивном языке народа, доставлявшем Византии столько бед.
Но и этого мало. Несмотря на свои частые сношения с варварами, греки чувствовали своё неизмеримое превосходство над ними: великая культура их давала им на это право. И разве не греческий язык – основной язык Нового Завета? Это льстило грекам! Кирилл и Мефодий принесли и эту последнюю жертву, которой до них из отцов и учителей Церкви не приносил никто. Предрекая великое религиозное будущее славянам и, следовательно, явление новой великой культуры, они тут совлеклись последнего самообольщения, которое составляло главную гордость позднейшего эллинства. И принимая на себя это столь исключительное дело, они вовсе не хотели быть реформаторами, провозвестниками небывалого учения, творцами новой Кирилло-Мефодиевской сектанты. И этого последнего соблазна совлеклись они, как бесовского тщеславия. В какой же зябкой наготе выступают они здесь! Речь их, сокращенная до небольших обрывков слов, понятных славянам, едва прикрывала их… воистину вретище!
Спрашивается: могли ли совершить такое дело надменные резонёры, задавившие в себе свои страсти, сухие грамматики или люди с авантюристически рассеянной душой, каких тогда было множество среди миссионеров? Нет, тут этими людьми должно было руководить пророческое помазание и высшая мера нравственной сосредоточенности.
К IX веку кафолическое Христианство изнемогало под тяжелым бременем наследия книжного мелева бездушного трёх великих культур – иудейской, эллинской и латинской. Надо было иметь смелость освободить вечное сокровище спасения из этих пут: риторства, бездушного книжного мелева комментаторов, философских спекуляций, иерархического высокомерия, казуистики комментаторов богослужебной эстетики, и открыть путь новых харизматических возможностей. И Кирилл и Мефодий это сделали. Вот почему с этих пор оккультно почувствовалась какая-то неизъяснимая упрощенность в Христианстве.
Тогда возникает вопрос: неужели же Бог, явивший Себя столь Близким Отцом Небесным для вселенских деятелей Церкви, мучеников и подвижников, не был Богом Кирилла и Мефодия? Был и именно потому. Нет, здесь пред нами нечто иное.
ОНИ СУТЬ ДВЕ МАСЛИНЫ И ДВА СВЕТИЛЬНИКА, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД БОГОМ ЗЕМЛИ.
Парное сочетание: умирал Кирилл, но над Мефодием чувствуется зов родной души.
Что значит это?
Кирилл и Мефодий хорошо знали Рим и ещё лучше знали Константинополь. И там, и здесь жизнь дворца, императорская власть, церковная политика, государственная дипломатия, законодательство, наука, искусство, служебное представительство, торговля, хозяйство – всё строилось не по велениям христианской праведности. На этих поприщах люди движимы были тщеславием, корыстью, соперничеством, плотоугодием, что порождало всюду угнетение и попирало евангельский завет братства. Миссии же, которые в те времена составляли самый привлекательный путь приложения человеческой энергии, были своекорыстны, жестоки, поработительны, подобны охотничьим промыслам. (Папы после альбигойских войн тысячами продавали в рабство и православных и еретиков на мусульманские рынки)
В Византии в то время при словесном исповедании ортодоксии господствовал аскетический идеал и, в сущности, дуализм, который бессилен был отмежевать себя от манихейства. Это действовало разрушительно на религиозную жизнь христиан востока и запада. Мысль, будто Богу принадлежит н е б о, а земля отдана в удел греху и диаволу (Манихейское марево), – эта чудовищно-ложная мысль требовала опровержения. Догма манихеян составила скрытое основание большинства последующих сект, опиравшихся на «эзотеризм». Но возражать на неё словами было недостаточно, да и поздно. Византия и так уже чрезмерно истощила себя в словесных спорах.
Величие Кирилла и Мефодия заключалось в том, что они не преклонились перед силою факта, а ему противопоставили другой факт, который со временем должен пожрать своего противника. Они разрушили «священное» понятие οικουμενη («заселённая» земля – пер. ред.), страны, населённой истинными людьми, и заменили его идеей праведной земли. Среди подавляющего господства аскетизма и одноактной эсхатологии всем подвигом жизни они запечатлели свою горячую веру в истину ветхозаветных (древних) обетований о «праведной з е м л е» и двухактную эсхатологию, пламенную проповедь нерушимого оптимизма. «Господня земля и всё, что на ней». Бог хочет, чтобы вся земля, как чаша, наполнилась откровением о Нём и ведением Его и чудесами Его. Бог хочет осуществления библейских времён в Христианстве и песни песней в человечестве. Ему нужен народ, который бы Его слушал. Хвала той радостной надежде, в которой славятся небо и земля.
Так перед этими толпами варваров выступили не фиваидские аввы, нашедшие свой путь в полном отрешении от земли и самоумерщвлении, а пророки о з е м л е, «две маслины», приносящие Богу, как дар земли, свой свет светильничный, это мужи неисчерпаемых царственных богатств сердца. Изо дня в день преподавая варварскому народу всю библейскую и богослужебную науку Востока, они сверх того вложили в ум ближайших учеников и эту интуицию священного материализма – любовь к грешной земле. С тех пор созданная трудами этих двух подвижников на севере Европы религиозная действительность озарилась пророческим чаянием явления в грядущих веках преображения нравственной сущности человека и братства между народами. Такого Христианства ещё не было в истории. С первых же дней в противность дряхлеющей Византии, умиравшей в объятиях боготворимого её прошлого, это варварское христианство устремляется в далёкое будущее, к задаче огромной, превышающей силы человека; и потому каждый строитель его для выполнения выпадающей на его долю части задачи должен будет также стоять пред Богом з е м л и. Так на наших глазах, уже в поздний час истории, зарождается новая религия земли.
Что же представляли тогда собой славяне, и способны ли они были явиться носителями столь великого обетования?
В то время славяне были уже весьма многочисленным и распространенным племенем, но народом, непомнящим своего родства (в противность Арабам и Евреям, и Грекам, и Римлянам). Это был самый странный из пасынков истории. В эпоху переселения племён славяне принимали участие во всех завоевательных набегах на культурные центры южной классической Европы, но всегда под главенством других народов и даже под чужим именем. Неспособные образовать из себя прочный военный союз, теснимые с запада германцами и монгольскими кочевниками с востока, они из одного рабства переходили в другое, и всегда сами сплетали бич, державший в подчинении своих соплеменников. Αναρχος και ατακτος εθνος (не имеющий начальников и непослушный народ – пер. ред.). Чрезмерная склонность к мечте, ко всякому ребяческому бреду, рознь, незрелость, распущенность, – чтобы победить всё это в тот век господства исключительно религиозных идей и повального невежества был один путь – это Христианство.
Это человеческое болото без всякого внутреннего единства, с постоянной гражданской войной, с политической нечистоплотностью, с мужицким ребяческим бредом, вечно болело жаждой истины. Надо помнить, что тогда науки не было у Европейского народа, не было идеалов никаких, кроме идей церковных.
Но опыт истории показал, что для славян принять Христианство на греческом языке – это значило совершенно раствориться в эллинстве. Так было в VI и VII веках, когда большие группы славян завоевали весь Балканский полуостров вплоть до Пелопоннеса. Они заняли там низменные места и тотчас прирастали к землям, на которых расположились пахотными общинами. <Они> Скоро приняли греческое христианство, и (неразб.) следующее поколение этих «завоевателей» при встрече с византийскими начальниками уже торопливо сворачивали с дороги и низко кланялись, снимая шапки. В оковах «права» канонического и государственного они рабствовали.
Принять Христианство на латинском языке – это значило подпасть под холодное веяние внутренней его опустошенности и смерти: отец умирал для сына и брат для брата становился замкнутым, точно незнакомым, и по лицам их уже нельзя было понимать, расположены ли они или враждебны друг к другу, доброе или злое замышляют. Но, кроме того, это значило попасть в рабство к франкам и тевтонам.
Император Карл (он был дракон, для слова, змей Горыныч), чтобы закрепить за собой опасную восточную границу, учредил по ней маркграфства. Маркграф обладал обширною военною и гражданскою властью наместника, и все учреждения и порядки направлены были к порабощению именно славян. «Марки» заселялись буйными немецкими выходцами, грубыми, алчными. Эти отчаянные головорезы, полурыцари и полуразбойники, такие же грубые и алчные «епископы», настоящие корсары, охотящиеся за людьми, строили «бурги», замки и крепости, пользуясь за это большими льготами, славян же они хотели держать как холопов, покорный рабочий скот, обрабатывающий землю в их пользу. Меч и латынь были направлены против холопов. С этих пор имя «славянин» стало означать раба, slavi – sclavi (славянин, раб – пер. ред.). Так на берегах Эльбы, Дуная и Вислы началась длительная расовая война, составляющая трагедию новой истории, цепь насилий, угнетений и жестокостей.
В душе славян везде стал подниматься вопль о спасении: неужели кабала, холопство и порабощение для них имеет быть вечным? Они видели, что из-за них, как слабоумной и слабовольной массы, идёт соперничество не на жизнь, а на смерть между греческой и латинской миссией. Рабочая сила у земли – был этот страдальчески жадный к вере народ. Чувство опасности было так велико и разительно, что почти одновременно славяне сплотились в несколько политических тел. Около 700 г. у чехов образовалось своё государство с князьями Перемысловичами во главе. Около 800 г. возникло государство у поляков, выбравших себе князем Пяста. Тогда же для отпора швабам и франкам создали своё государство и хорваты. Еще раньше в эту же пору сложилась и Болгария на Дунае. Немного спустя и восточные славяне, Русь, – образовали на Днепре своё государство с варягами. Но всем этим построениям недоставало высшей идеи, не было никакой общей определённой цели, не было никакого морального единства.
Вот почему, когда Константин и Мефодий, прибыв в Велеград, впервые вышли с крыльца княжеского терема князя Ростислава (князь Великой Моравии, правивший с 846 по 870 годы – прим. ред.), обратились к собравшемуся тут народу с благою вестью о Слове, ставшем плотью, и под конец объяснений прочитали Никео-Цареградский символ по-славянски, – то это принято было всеми, как весть освобождения. Так народное движение против немецкого порабощения сразу нашло себе опору в новой вере и слилось с церковным противодействием латинству.
Исторический оптимизм, чаяние единения всех людей и братства на земле как нельзя больше подходило к характеру славян. С первых шагов на поприще истории у славян поражает склонность не к хищным союзам завоевательным, а к трудовой земледельческой мирной общине. Часто под влиянием монгольских жестокостей и германских индивидуалистических соблазнов наблюдался у славян упадок этого общинного духа на несколько поколений, но теперь Христианство принесло славянам неисчерпаемый источник перерождения общины естественной, стихийной, этнографической в общину религиозную, – источник, из которого в будущем должны изойти самые удивительные и бурные стремления этого народа к добру и правде, и самые невероятные по самоотвержению и последовательности попытки осуществить христианство на земле.
Теперь же славяне слушали песнопения, проповедь и отрывки из пророков Библии, – и ушам не верили. Происходило какое-то чудесное крещение псалтырью их речи. В общеупотребительных словах их примитивного, но могучего, языка неожиданно открылись какие-то двери в вечность, что сообщало этим словам необыкновенный смысл и вес. А потом эти слова снова как бы вспять свёртывались и казались незначительными и затёртыми привычкой. Весть о том, что произошло в Велеграде, стала быстро распространяться по всей Моравии. От селения к селению, от города к городу пошел говор о новых учителях. У водопоев, на речных бродах и перевозах, вокруг пастушечьих огней придорожных костров по ночам, везде жадно прислушивались к вестям о новом учении. В домах под соломенными стрехами подымались споры о лучшей вере, и все склонялись к тому, что не может же быть, чтобы на земле было столько вер, сколько голов, что непременно должна быть одна истинная вера, которая и победит. И обсуждали вопросы, вытекавшие из нового положения. Скоро дело крещения стало общенародным, если не в количественном, то в качественном смысле. С крещением совершенно падала власть прошлого над этими душами. О язычестве прежних дней никто уже теперь не жалел. Там, позади, была жизнь холодная, бессловесная, тусклая, полускотская. Как смутный и бестолковый сон она больше не тяготела над душой и забывалась легко: там не было, что помнить, и нечего жалеть.
В немецких же замках гордо возвышались костёлы и монастыри, обнесённые крепостными стенами, откуда, трубя в рога, по-прежнему закованные в латы «епископы» скакали на конях, размахивая мечами, и неслась завоевательная латынь и проповедь немецкая. Как это было не похоже на открывающиеся по деревням в разных местах Моравии богослужения. Здесь везде учили одному и тому же: они вдвигали народ мечтательный со слабым развитием личности в готовый уклад, от которого веяло греющим светом твёрдой и вековой определённости, что было для славян истинным спасением. Тысячные толпы собирались теперь к литургиям и, стоя плечом к плечу, внимали ектеньям, слушали древние сетования о том, что человек «яко трава и дние его яко цвет сельный», кое-как вкладывали в сердца отрывки Евангельской повести, начинающейся «во время оно», о загадочном и страшном деле, какое совершилось в Иерусалиме во время оно – распятие Сына Божия. И когда эти люди, давно и страдальчески искавшие выхода в молитве, мощным унисоном начинали петь «Отче наш», то это имя «Отче» производило на них подавляющее впечатление, торжественное и чудное. И им казалось, что волосы на голове шевелятся у них не от ветра, а от этого имени.
Тут совершалось великое трогательное дело, но, судя по-человечески, совершенно неспособное само себя защитить в тот век религиозного хищничества и насильственных обращений. Вот почему Господь сам на себя берёт эту защиту и говорит:
ЕСЛИ КТО ЗАХОЧЕТ ИХ ОБИДЕТЬ, ТО ОГОНЬ ВЫЙДЕТ ИЗ УСТ ИХ И ПОЖРЁТ ВРАГОВ ИХ.
Изумительные слова. Неужели это так и было в действительности? Где же? Когда? Вспомните, во что обошлось Западу это отрицание.
На обороте листа:
В них сразу сосредоточились яркие лучи истинно-апостольского миссионерства. Но вдруг – ко всеобщему изумлению и ужасу – совершается внезапный перелом, и эти два светильника начинают жечь беспощадно своих и чужих.
С этими людьми справиться мудрено. Их нельзя дискредитировать ссылкой на их своекорыстие, невежество в богословии или нравственную порочность. В познаниях они могли померяться с любым папским богословом и канонистом.
Тогда-то разгорелась жажда истребить таковых от земли (Деян.XXII, 22), чтобы об них не было ни малейшего слуха. И чтоб они не оставались вечными, непоколебимыми обличителями папской системы, нестерпимыми укорами для каждого паписта.
Они решили и постарались скрыть их в море лицемерного неведения.
Сохранить их имена было и больно и опасно, потому что эти люди были живыми свидетелями коренной несостоятельности папистической системы. Это грозные люди! Они на всём протяжении дальнейшего существования, т.е. до развязки (служить в муку живущим на земле), заставляя ежеминутно и с тревогой задумываться относительно своих прав на существование тех, кто, казалось, так твёрдо держит в руках кормило правления Христианством.
Насильственное забвение – вот средство. Но…
Моравия с Паннонией подчинены были «юрисдикции» Зальцбургского архиепископа (это же был сущий разбойничий притон). «Патеры» давно уже собирали десятину и всякие оброки с моравов. Теперь же со многих мест понеслись в Зальцбург жалобы и крики о нарушенных правах. Писали: «Явился какой-то грек, именем Мефодий, со вновь изобретёнными славянскими письменами, который в своей высокомерной мудрости сделал для части населения той страны ненавистными обедни, евангелия и прочие церковные службы по-латыни»
Им открылась бесполезность их служения, эгоизм преступный, неверие, кощунство. Они стали чувствовать себя постоянно точно пред ними поставили зеркало.
Пассавские епископы, викарии Зальцбургских <архиепископов>, эти тати славы святых и патеры, немецкие Каролинги, рыцари всего Маркграфства, латинские миссионеры, немецкие проповедники, проповедовавшие ловкую и красивую ложь о Христе и со змеиными оконечностями, – словом, те, кто, уверяя, что «печётся о душах славян», употреблял усилия, чтобы отвоевать эти массы прирождённых холопов, приросших к земле, как мягкую подстилку для германской Империи, окружили гневным кольцом славянское начинание. Всё это были враги могущественные, опытные интриганы, страшные потому, что готовы были пойти на всё.
Пока Кирилл и Мефодий сеяли свои семена молча, каждый из них ещё мог истолковывать это дело в безобидном для себя смысле. Раньше они назывались епископами, совершали мессу и были спокойны. Теперь конец покою. Но когда они, защищаясь от готовящихся посягательств и обид, вынуждены были открывать основную идею этого начинания, то это полагало конец их цельности языческой и разбойничьей, и приводило в ярость, ибо все они чувствовали себя огненно изобличёнными, потерявшими и лишенными всякой уверенности в своих оценках. Что-то у всех этих чуждых захватчиков и грабителей душ обрывалось внутри нравственного содрогания, и умы, (лишенные всякой уверенности в своих оценках), попадали во власть каких-то огненных вихрей сверхчеловеческой вражды: их действия становились после этого гораздо радикальнее, чем сами они того хотели. Посмотрите на епископов Зальцбургских и их Пассавских викариев (со змеиными оконечностями). Это ли не люди, заживо сгорающие на геенском огне ненависти и вражды ко Христову делу? Настоящие корсары – бандиты, охотящиеся за людьми. Жестокие телесные истязания, которым они подвергли Мефодия, заключив его в тюрьму после того, как он был самим папой уже назначен Архиепископом Моравии и всех славян, двухлетнее заключение в темнице, наглые обвинения в ереси и клеветы среди человеческого лая, которыми старались опутать каждый его шаг, подлог папской анафематствующей буллы, и всё это делалось с полным забвением своего священного сана, – всё это с изумительной точностью подтвердило слова Апокалипсиса об огне поядающем.
В Византии этого не было. Здесь Кирилла и Мефодия мягко и ласково благословили на это дело кастрированными словами. Тут было просто недоразумение. Тут смотрели на эту миссию, как на первый шаг к заключению церковно-общественного союза. Патриарх Фотий (ок.820-896гг., патриарх в 858-867 и 877-886гг., один из отцов церкви, святой – прим. ред.), вечный учитель Вести, был весьма высокого мнения о Византийской Церкви, греческой народности и общечеловеческом значении эллинской культуры. Мысль о замене (отмене) всего этого ему бы также показалась безумной, святотатственной. Как раз в это время Фотий писал Армянскому Католикосу Захарии: «евреи и их язык отвергнуты Богом и заменены Греками и их языком». Эта мысль его вытекала из уверенности, что Греки – новозаветный Израиль, что религиозно-историческая миссия еврейского народа перешла в Новом Завете на Византию. И поразительно, что Фотий, умнейший и самый яркий выразитель этого суеверия, явился как раз в то время, когда миссия религиозная греков в христианстве окончилась.
Царствовавший в это время в Константинополе Император Михаил III, благословлявший Кирилла и Мефодия на проповедь, был ничтожнейший шут на троне, всегда пьяный, устраивавший кощунственные шутовские процессии по столице …ему до высоких задач христианства было решительно всё равно…
Кирилл и Мефодий понимали всё это, – и огонь из уст их не выходит в сторону греческого Востока только потому, что там их не обижали, а значит, и не вынуждали их раскрывать мысль, которую они вкладывали в эту миссию.
И ЕСЛИ КТО ОБИДИТ ИХ, ТОМУ НАДЛЕЖИТ БЫТЬ УБИТУ.
Кто же в действительности обижал их? Скажем прямо: весь Запад, ибо его интересы тут оказались задетыми в корне среди ожесточенной борьбы моравов с немцами за независимость. Почему же такая страшная кара? И неужели она исполнилась в истории? Где? На ком?
Эта проповедь разделяла мир на два стана: друзей и врагов. Вальденцы позднее…
Только это хилиастическое христианство таило в себе оправдание меча, т.е. государственного принуждения и кровавых возмездий. Только оно способно было создать святое воинствование ради осуществления Божьего Града, т.е. царства справедливости на земле. Если принять во внимание, что все враги действовали против этих утопистов не только по мотивам частной случайной злобы и личной корысти, а вследствие религиозного извращения, лежавшего в основе латинской лжетеократии, и по мотивам обще-культурным и историческим, – то достойно и праведно, что всем носителям этих движущих начал и им самим суждена с м е р т ь религиозная и историческая, политическая.
Но то ли мы видим в истории? Именно то. Как бы в воздаяние за это преступление ближайший век был охвачен манией убийства. С презрительной усмешкой отвергнув оправдание меча, которое давалось в этой проповеди, высшие власти Запада вступили на путь собственных самоизмышлённых оправданий, голого убийства, и сами погибали от убийства, ибо создаваемые ими иные фантастические оправдания меча и крови не были убедительны для других. Власть Каролингов, отравленная мечтою миродержания, вообразившая себя преемницей древнего Рима, с первых шагов так жестоко ополчившаяся против этих двух святых братьев, пала, пораженная проклятиями с того папского престола. А власть духовная папская подломилась, пораженная влиянием эмансипированной атеистической культуры.
Эта борьба между папством и имперской власти в ближайший век охватила весь латинский Запад и потрясла до основания весь строй его жизни. Эта борьбы была политическая – между духовной и светской властью, религиозная – между католичеством и манихейством, и социальная – между высшими и низшими классами, между бедняками и богачами, рыцарями и городами, и идейная теоретическая – между христианским аскетизмом и античным рационализмом, и племенная – между романскими народами и тевтонскими. Борьба эта наполнила убийством весь воздух Европы. Она же шла в литературе, и в школах, и на городских улицах и на полях битв… И кончилась она Вормсским конкордатом (теократия Григория VII не состоялась) 1122 г., т.е. «соглашением», как двух самостоятельных начал. Тогда стали выдвигаться города и среднее сословие, как «государственный чин», чего никогда не было в Византии. Это сословие стало носителем светского эмансипированного гражданства, открыто устремляющего свои мечты к счастью на земле, уже не боящегося папских отлучений. В Италии возникли даже свободные городские республики, расширился умственный кругозор, и самый клир повсюду стал обсуждать поступки пап. Так главные силы, столь враждебно действовавшие против юного славянского Христианства, были совершенно ослаблены.
ОНИ ИМЕЮТ ВЛАСТЬ ЗАТВОРИТЬ НЕБО, ЧТОБЫ НЕ ШЁЛ ДОЖДЬ ВО ДНИ ПРОРОЧЕСТВА ИХ.
Кирилл упрекал врагов, что они хотят затворить пред целым народом Царство небесное. (Это не было соперничество из-за кучки поклонников.)
Какое страшное право – узодержатели природы. Неужели этим смиренным переводчикам Святого Писания и учителям было присуще такое решающее значение в деле ниспослания дальнейших откровений на землю человекам? Знали ли об этом сами Кирилл и Мефодий?
Думаю, что знали. А если и не знали полным знанием, то по факту своей исключительности смутно угадывали. Зато теперь, когда из этих скромных семян спустя 1000 лет выросло русское Христианство, единственное сохранившее Апостольское предание и эсхатологию первых веков и способное поднять самые тревожные социальные и религиозные вопросы. Мы видим, что их проницательность была ни с чем не сравнимая, ибо иначе как объяснить себе их деятельность, столь тихую со вне и столь смелую неукротимую и бурную львиную во внутреннем существе своём.
На обороте листа:
Они прибыли в Рим. Папа увидел пред собою кротких смиренных овец. А из Зальцбурга летели письма, изображавшие их, как злобных мятежников и бешеных волков. Папы с подозрительным вниманием выслушивали их и испытывали, но не находили ни одной черты недовольства и непокорства, – сплошное повиновение и кротость. Неужели это буря, притворившаяся тишиной? А из Зальцбурга летели письма, характеризовавшие их как…
Самые тихие слова – это те, что приносят бурю.
1. Но сильное и сплоченное сопротивление всей свиты папы и всей римской курии, которые жили и наслаждались злоупотреблениями.
2. Уменьшение власти иерархов, что было бы неизбежным результатом всякой реформы в Церкви.
3. Развитие папской системы в централизованную бюрократию, всюду проникающую.
Они робко молчат в Византии о своих истинных чаяниях. Ещё смирнее держатся в Риме, боясь разгневать пап и лишиться их милости. Они во всём могли служить примером канонического послушания. Стараются не восстановить против себя Германских князей и архиепископов Зальцбургских, чтобы не навлечь на них страшную кару б е з д о ж д и я. (Они могли потрясти варваров, если бы раскрыли пред ними карты Византийской(?) Церкви и Моравии(?).)
И вместе с тем, они не могли примириться с той религиозной засухой, которая своим историческим пессимизмом измучила алчущую землю под игом Византийской теократии. Там как раз в это время совершали похороны по обетованию «Праведной земли» после победы над «последней» ересью иконоборства. Там установили праздник так называемого «Торжества Православия», вкладывая в это такой смысл, который совершенно расходился со смыслом Кирилло-Мефодиевского дела. В Византии считали православие «совершение приявшим», исчерпавшим себя до кончины мира в Никео-Цареградском символе. Славянские же первоучители в пророческом наитии предвосхитили приход на землю новых времён великой радостной эпохи откровения, имеющих изливаться обильнейшими дождями в души народов.
И достойно и праведно, что в наказание тем, кто, так или иначе, отрицал это, – в душу их во всю жизнь не выпадет ни росинки Божьего откровения, пока не исполнится развязка. Ибо отрицать это можно было только из-за кощунственного неверия в возможность откровения вообще, – неверия, доведённого до богоборства. Небо закроется для них. Мертвящая схоластика, сухое умственное постижение догматов, пустая риторика, холодный рационализм, ложная мистика стали теперь уделом этих отрицателей.
ОНИ ИМЕЮТ ВЛАСТЬ НАД ВОДАМИ ПРЕВРАЩАТЬ ИХ В КРОВЬ...
Эта страшная черта совсем мало вяжется с их служением. О каких водах тут идёт речь? О какой крови? Крови было слишком много в истории после IX века, и как определить ту, которая могла бы потечь от Кирилла и Мефодия?
Это анархические, далёкие истины, которые могли быть благотворны через сто лет или через тысячу лет, но в то время только бы разъярили их такой многочисленной (неразб.) людей, были бы разрушительны для народа. Львиная вера!
Дело в том, что Кирилл и Мефодий, создавая революционное христианство, со своим учительным воздействием обращались не к отдельным лицам, как это делали Апостолы в первые века, а к славянскому народу, как к целому: к князьям, к государям, к владетельным жупанам и вообще к власти имущим, как представителям этой целости, власти, у которой меч в руках.
Кирилл и Мефодий смешали стада востока и запада в одно.
Христу нужен народ, который бы Его слушал и пошел за Ним.
Таково было их выступление перед Ростиславом в Моравии, перед Коцелом (833-876гг., князь Блатенского княжества – прим. ред.) в Паннонии и перед Борисом в Болгарии (Борис I – болгарский хан, ум.889г., при нём Болгария приняла христианство в 864г. – прим. ред.). Они изложили им словесно лишь ту долю истины, которая могла бы им служить во благо, принимая во внимание их детский ум. В остальном же подобно ласковым лучам подернутого облаками солнца, они будут озаряемы до тех пор, пока не созреют… Иначе великая «идея» могла им принести смерть.
С вечевых помостов и княжеских крылец шла проповедь новой веры в славянах.
Но языческое славянство представляло собой непрестанно волнующуюся стихию. Все грешные монады этой стихии Кирилл и Мефодий могли противопоставить друг другу, и тем обречь эту стихию на ещё большие волнения и безысходные кровавые смуты, пока не произойдёт откровение сынов Божиих в этом Христианстве. И тогда волны славянских нашествий, уже несколько веков напиравшие на Византию и на Запад во имя принятой веры, совершенно затопили бы эти очаги религиозной и гражданской культуры и социальной лжи. Но Кирилл и Мефодий пошли иным путём. Не отвергая у славян относительной ценности языческих социальных связей, они признавали и условно благословляли их, но с тем, однако, чтобы эти связи были побеждены изнутри их самих, по мере духовного роста во Христе. Этим случайный сброд из обломков других наций обращался в народ, политическое тело. Вот почему Кирилл и Мефодий должны считаться подлинными устроителями царств и народов.
Как же они делали это?
Они не только обличали славянских князей, вельмож, жупанов и сильных мира, но жаждали навязать им чуждые идеи, а в умах власти зажгли не византийскую эсхатологию мрака и страшного суда, а радостное видение «Мессианских дней на земле». И этим они создали революционное Христианство между ними, как бы заповедали измерять правду и неправду повседневных дел и задач управления.
Славянские мужики совершенно невежественны и в общей массе глупы. Они способны только к пассивному сопротивлению, но совершенно неспособны ни к организации, ни к сознательной политической дальновидности – αναρχος και ατακτος (не имеющий начальства и порядка – пер. ред.).
Это научало сознательной политической дальновидности.
Довольно было Кириллу и Мефодию возвести это воинствующее пророчество в догмат, и дать славянам «новые заповеди» кровавые, вытекающие из новой веры, и они могли сорганизовать эти народы в воинский стан, дать им предопределяющую программу завоеваний и заранее начертанный план внутреннего устройства, обеспечивающий это длинное воинствование. Это бы обрушило неисчислимое племя на врагов его. Но они этого не сделали.
Почему? Конечно, не потому, что им была присуща мертвящая плоская мерзость пацифизма. Ясные, простые, хотя почти бессловные интуиции свои они вложили в эту новую религию – единственно возможные цели государственного строительства в Христианстве и единственное возможное (дальновидность) оправдание власти (Львиная вера). Всё остальное принадлежало к категории благ, которые «приложатся» к этому основанию в свой день и в свой час. На почве этих интуиций верующие всегда легко и свободно могли образовывать страшные рати, повинующиеся военным вдохновениям своих вождей, в роде Иоанна Жижки и Прокопа. Это были слишком отвлеченные, слишком далёкие от жизни люди.
В хилиазме всегда д в а момента. Первый – момент львиный (гнева), отомщения, разгрома, революционной жестокости. Здесь находят себе оправдание все исступления фанатизма для осуществления Царства Божия. В эту пору верующие по внутреннему голосу сердца должны распознавать, что право и что неправо, и изрекать, что в политике следует отменить и что достойно пощады, – словом, что такое добро и что такое зло.
Второй момент – царство совершенства, братства, спокойствия, мира, терпимости, которое должно снизойти на землю, когда старое безбожное поколение будет сметено.
И то и другое вспыхнуло спустя три столетия в Чехии после того, как Латинский католицизм взял там верх, и, казалось, окончательно укоренился. После мученической смерти Иоанна Гуса, великое наитие пророчества вдруг, как умственная эпидемия, охватило забитых поселян. Огненные обличительные речи, исполненные страшного общественного значения, полились там, где было вековое молчание. И всю нацию охватило возбужденное романтическое (у мечтателей) состояние, верили всяким запутанным и таинственным словам о Вечном Евангелии. Как из-под земли явились страшные таборитские рати со слепым Жижкой во главе. «Христос придёт и будет держать суд над властелинами католического мира» и на развалинах всех царств воздвигнет оружием таборитов новое Царство Божие, ту идеальную республику и братскую общину, которую предсказывали древние пророки и в которую первые христиане верили буквально. Где появлялся Жижка в лаптях на белом коне с горстью своих таборитов, там была победа. Его большая бритая голова, длинные польские усы и потухшие навсегда глаза придавали ему вид ангела возмездия и смерти. Ибо в нём чувствовалась поистине библейская сила, умной зрячестью своею заменившая ему телесные глаза. И когда слышали издали грохот гуситских обозов и пение войск, поющих псалмы, то «крестоносцы» бежали с поля битвы.
Это хилиастическое революционно-христианское движение дало начало всей последующей реформации, потрясшей весь строй средневековой латинской лжетеократии.
Пять крестовых походов было направлено против этого маленького славянского народа, но все потерпели неудачу. Все оставшиеся без дел шайки наёмников из всех стран Европы брошены были на Богемию, как некогда на валденцев.
На развалинах священно-римской Империи родились новые национальные и эмансипированные государства. Но из них только славянские, принявшие Кирилло-Мефодиевскую и д е ю, имеют путь, по которому могут совершать брожение в последовательном историческом процессе, не разрушая их, а ведущие от слабости к силе, от детства к мужеству, от национализма к всечеловечеству. В то время, как прочие национальные государства Европы оказываются пустыми, эфемерными, не несущими в себе никакой идеи, способной претворять их в высшие формы, – славянские растут. Хилиастическая идея, ставшая второй природой этого племени, даёт им будущее, раздвигающееся в широкие сверхисторические перспективы.
И ПОРАЖАТЬ ЗЕМЛЮ ВСЯКОЮ ЯЗВОЙ, КОГДА ТОЛЬКО ЗАХОТЯТ…
Стоя пред Богом з е м л и, и, имея поэтому в своих руках идею праведной земли, а, следовательно, и единственно возможное оправдание всякой привязанности к земле и всякого труда на земле, они имели власть обращаться ко всякому народу, как труженику земли, и вскрывать пред ним неправду его дебелой прикованности к материальному плану и тем обрекать на нескончаемый ряд мук нравственных и потрясений социальных. Ибо такие откровения имеют силу тревожить воображение народов целые века, то терзая их совесть упрёками и обрекая на созерцательность, то устремляя к бурному действованию.
Но откровение, данное одним, всегда вызывает зависть обойдённых. Избрание одних вызывает преступные умыслы против них со стороны отвергнутых. Посмотрите, насколько отравлено было воображение у народа, обойдённого в данном случае. Разумею франков, швабов, тевтонов, которые выступили против славян с такой бешеной враждой как раз в это время. Довольно вдуматься только в то, чем полно воображение этого народа на путях их в эти фуриозные саги о золоте Рейна, о крови и мщении без конца и края, о кровавых взаимоистреблениях, которые они ведут и в загробном мире, в своей Валгалле. И что особенно поражает, как свидетельство о собственном отвержении – это скорбная легенда об утраченной «Чаше Грааля», о Мерлине, в то время как под боком у этих slavi-sclavi – народа, постоянно истязуемого тевтонством, есть и ЧАША и обетование, о котором так тоскует всегерманский Мерлин. Тут произошла какая-то метафизическая порча целой расы, обрекая её в будущем, несмотря на её рыцарство и церковный идеализм, на полную неспособность к высшей благодатной жизни, подаваемой в Христианстве, т.е. смерть.
- - - - - - - - - -
Таково было служение этих «двух свидетелей» и «пророков».
Поразительнее всего тут то, что Кирилл и Мефодий не оставили по себе ни одного тома проповедей, ни трактатов по догматике, ни экзегетических опытов, ни обличительных посланий, ни, наконец, своего катехизиса, ни хартии, содержащей «последнюю волю» так называемую.
Всё служение их совершилось как-то даже не в словах.
Там, где сами главные деятели молчат, где нет летописных документов, где умышленно, нарочно искажены свидетельства современников, или история ещё совсем не написана, там символы и притчи Апокалипсиса, созерцавшиеся Иоанном с Патмоса, как далёкое будущее, для толкователя служат ключом к разгадке прошедшего и начертанию сокровенного облика этих странных деятелей.
Странность же служения этих двух учителей в том, что стоя как раз на рубеже перехода религиозной гегемонии в христианстве от классических народов к северным варварам, – в этот момент, казалось бы, требуется особенная ясность идей и четкость выражения, бьющая по глазам. Ибо самая эпоха требовала простоты, выразительности и неумолимой конкретности. Казалось, надо было потрясти нервы этих варваров. Но Кирилл и Мефодий пошли не этим путём. А каким же?
Чем объяснить такую странность? Борьба, которую приходилось выдерживать Кириллу и Мефодию, была сложна и исполнена совершенно особенного драматизма. Исключительность эта была в том, что по всей линии этого столкновения никто, кроме Кирилла и Мефодия, не говорил искренно, все лицемерили. Среди немецкого гвалта о нарушенных интересах, и папских красноречивейших излияний о любви к славянам, о самом главном и волнующем все хранят упорное молчание. Невольно хочется вскрикнуть: да это какая-то пантомима! Действуют латино-германские пасторы безбожно, по-разбойничьи, а говорят речи самые елейные и назидательные. Прочтите послание папы Николая Ι (св. Николай Ι Великий, 800-867гг., папа с 858 по 867г., идеолог папоцезаризма прим. ред.) к болгарскому князю Борису и Фотия к нему же. Прочтите переписку пап с Мефодием и Зальцбургскими архиепископами и послание Кёльнского архиепископа к папе. А Кирилл и Мефодий молчат. Что значит это?
Европа расставалась с классическим прошлым. Тогда на Востоке лучшие люди переживали глубокое разочарование в слове и уходили в затвор на вечное молчание, ибо Византия погибала в потоках слов. Проповедники, оставлявшие после себя по десяти томов амвонной болтовни, уже не были величаемы «тринадцатыми апостолами». Рим в лживых словесных измышлениях и текстах писаний прятал свои чудовищные планы. Кирилл и Мефодий, вкусившие сладости молчания среди риторики страсти ещё до своего выхода на учительный подвиг, понимали больше, чем кто-либо, что слова, которые люди говорят друг другу и воспринимают друг от друга – бессильны.
Все прятали своё подлинное лицо за обряд, за слова, за этикет, за тексты писаний. Это самые неверные знаки переживаемых настроений. Это не помощники общения, а помеха. И если кто хочет высказать правду, которой жива его душа, – а их души были действительно живы нею, – тот должен пользоваться не словами. И эти странные учители, именно в силу своего учительного гения, чувствовавшие на себе, как Павел, тот же подгоняющий бич – «горе мне, аще не благовествую», глубоко страдали от этого разочарования в слове. А у страждущих язык всегда немеет. И вот тут-то надо уметь слушать эти их немые речи. Где же они?
И Кирилл, и Мефодий оставили нам своё слово. Под конец служения своего они, как апостол Павел, могли, указывая на славян, поклониться на все четыре стороны и сказать миру: «вот книги, написанные нами». И книги эти действительно покрыты неизгладимыми письменами. Огненные слова забытых и отвергнутых Божиих обетований о Мессианских днях на земле были начертаны твёрдой рукой в душе этого молодого племени. Многие ветви этого племени затеряются где-то в огромном Божьем мире, листья с них разлетятся по ветру, но главные его представители уже никогда не могли забыть этого н е м о г о пророчества. Благодаря верности ему некоторые из них составили основной стержень всего дальнейшего домостроительства – «народ Божий», который посвящён Богу для развязки религиозной драмы в языко-христианстве. И доселе пророчество это, как грозная золотистая тишина вздрагивает, трепещет над этим народом, составляя над ним мистическое зарево, видимое со всех концов земли.
- - - - - - - - - -
С этих пор и главный сценарий Богодейства меняется. Это уже не беломраморные и многоколонные города античной Малой Асии апостольского века, не масличные рощи Палестины, не пышные дворцы берегов Босфора времён Вселенских соборов и не раскалённые солнцем жёлтые пески и скалы Нитрии, а земледельческие селения, мазанки под соломенными стрехами, бревенчатые избы, поля, пашни и необъятная зелёная пустыня лесов северной и восточной Европы, летом утопающих в таящем запахе смолы, а зимой оцепеневших под белым саваном снегов. Все эти страны были незнакомы с преступлениями античной цивилизации, где рабство составляло главную экономическую основу жизни. Здесь славянские народы только начинают новую религиозную жизнь. Здесь воздух не был отравлен пресыщенным дыханием роскошествующих тиранов и убийц, захвативших кормило всемирного законодательства над всем миром, и не был потрясаем рукоплесканиями безумствующих партий цирка при виде мучений Христа. Ни разврата, ни угнетения, ни рабства. Солнце не было омрачено слезами и проклятиями человеком своего удела. Земля не омочена слезами рабов, закованных в цепи, порабощенных тружеников пашни. Не разорвана на части латифундиями и не обесчещена криками «это моё» – ex jure quiritium meum esse aio («по праву квиритов принадлежит мне», часть словесной формулы, произносимой при приобретении собственности по древнеримскому обряду манципации – прим. ред.). Здесь везде чувствовалась полная, ещё не оскорблённая людьми жизнь природы. Здесь почти не было рабства, а если и были рабы, то они почти не отличались от домочадцев. Не ведомы были все эти чудовищные жестокости старого мира. Народ, русые великаны, не в тогах и не с золотыми обручами на черных завитых кудрях, а в лыковых лаптях, льняных рубахах, в портах, овчинах и сермягах.
И вот пока в среде этих нетронутых славянских народов происходит робкое восприятие семян нового государственного Христианства, как раз в это время на арену истории выступает страшная сила, снедаемая жадною похотью объединения племён земных под иным знаменем. Этою силою является тот же древний одраконенный г у м а н и з м, который некогда сослужил столь фатальную службу Империи Римской, и которого с такими страданиями совлеклась верховная власть в Византии. Но здесь явилось новое: бестиальная природа этого гуманизма выступает в странном кощунственном осенении иерархическими оправданиями Церкви Римской. Как раз в это время Христианство стало делаться новым язычеством.
Это и дано было увидеть Иоанну, как будущее. Он говорит:
И КОГДА ОНИ КОНЧАТ СВИДЕТЕЛЬСТВО СВОЁ, ЗВЕРЬ, ВЫХОДЯЩИЙ ИЗ БЕЗДНЫ, СРАЗИТСЯ С НИМИ…
Зверь – это древнее человекобожие Римской Империи, демон семи холмов. Но тут оно выступает уже не как государственный гуманизм, не как начало, осуществляющее государственное единочеловечество, а как гуманизм церковный. В это время в Церкви Рима чувствуется тот же пожирательный аппарат, тот же наивно свирепый, но оправдываемый извращенным апостольским преданием иерархии и сообщников зверя, мистическим блудом поражённых.
Поборниками его сделались люди мрака, невежды суеверий, потворщики дурным народным страстям.
Это кощунственное соединение Христианства с завоевательным человекобожием сделало из папства силу, стремящуюся распространить свои воздействия на все «племена и народы» Запада, а если то окажется можно, то и Востока, т.е. «латинский католицизм».
Тут показания Апокалипсиса поражают своим соответствием с фактами истории. Действительно, к IX веку инкубационный период латинства кончился. Занавес поднимается, и началась открытая история этого иерархического человекобожия завоевательного. Папа Николай I был фатальным человеком в развитии этого католицизма – открыл эту эпоху как раз тогда, когда Церковь славянская была уже основана, священство рукоположено, на 200 алтарях совершалась Евхаристия, принимаемая в страхе, догматы о Троице и Богочеловечестве Христа уводили умы этих взрослых детей в горняя, и над народом засияло пророчество, раздвигающее гряду будущих веков и устремляющее его к обетованному Граду Божию.
Как раз в это время, только что расправившийся с кафарами (катарами) и валденцами, выступает з в е р ь и з б е з д н ы и начинает строить свой лже-град, поддерживаемый демоном семи холмов, который иерархия Римская кощунственно также называет «Божиим». Здесь богоопустошённые люди с выстриженными макушками, становившиеся на работу этого строительства, давали в себе место чему-то объективному, живому, шевелящемуся, выходящему за пределы каждого личного «Я», осуществляющему своё великое туловище со змеиными оконечностями незнаемо в складках душ много множества таких же деятелей, и очертания его тирании громадны, граничат с бесконечностью. И это наполняло души их пафосом и решимостью не отступать ни перед какой ложью, ни перед какою интригой, ни перед какой жестокостью, когда дело идёт об осуществлении его намерений.
Раньше тиранический гуманизм этот был исповедуем лишь некоторыми гордыми иерархами Рима. Лев Великий (римский папа в 440-461гг. – прим. ред.) не убоялся даже перед лицом Халкидонского Собора провозгласить дикую фригийскую теорию, будто римские папы и он, в том числе, наместник какого-то «князя»… апостолов. Теперь то же утверждали архиепископы Зальцбургский и пассавский (в Пассау был епископ – прим. ред.), некоторые миссионеры и легаты папского престола, словом, все, кому приходилось бороться за католицизм. Но теперь все эти люди единого завоевательного облика бестиального нашли в Николае I свои уста, и открыто выступив на первый план истории, повели западное Христианство к ужасным катастрофам.